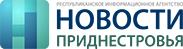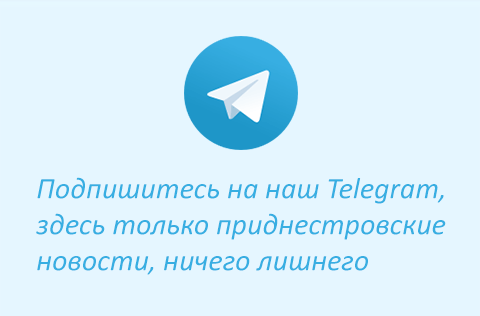Блокирование переговоров в формате «5+2» (ПМР и РМ – стороны; Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; США и ЕС – наблюдатели) отдаляет урегулирование молдо-приднестровского конфликта, который может быть преодолён только на основе компромисса. О специфике конфликта между Тирасполем и Кишинёвом, о территориальном вопросе, о переговорном процессе и о принципах урегулирования рассказал бывший представитель России на переговорах Сергей Губарев. Его доклад на конференции «Приднестровская государственность: История и современность» приводим без изменений.
За 35 лет своей истории Приднестровская Молдавская Республика прошла длинный и тернистый путь развития, постоянно преодолевая внешние вызовы и угрозы.
Приднестровье сегодня - важная геополитическая точка в Черноморско-Балканском макрорегионе для целого ряда государств и других субъектов международной политики. Значимость Приднестровья отмечалась на протяжении всей его истории, но многократно она возросла в начале 90-х годов, в период распада общего пространства СССР и фрагментации тех его частей, единство которых создавалось на протяжение длительного времени.
В течение длительного периода правовой контекст конфликта между Молдовой и Приднестровьем определяется как противоречие между зафиксированными в Уставе ООН принципом права народов на самоопределение и принципом нерушимости границ/территориальной целостности государств.
Отчасти такая характеристика конфликта является верной. Действительно, в Приднестровье сформировалась своя общность – народ Приднестровья, с которым себя идентифицирует почти 90% населения. Именно эта общность, а не этнические русские, украинцы, молдаване добиваются признания своего права на самоопределение. Именно эта общность вправе самостоятельно определить свою судьбу, как неоднократно подчеркивал Президент России В. В. Путин.
С другой стороны, и территориальная целостность Молдовы не является безусловным понятием. Документы переговорного процесса достаточно четко ограничивают пределы возможного применения данного принципа.
Во-первых, согласно документам переговорного процесса (Меморандум 1997 года; о нем - чуть ниже) Молдова и Приднестровье взяли на себя обязательство строить «общее государство в границах МССР на 1 января 1990 года». Однако на 1 января 1990 года у Молдавии не было выхода к Дунаю, а трасса в районе Паланки относилась к ведению властей МССР. Уже исходя из этого можно говорить о том, что «границ на 1 января 1990 г.» более не существует. Кроме того, границы на 1 января 1990 г. существовали в рамках более высокого формата интеграции – Советского Союза, и вряд ли уместно игнорировать данный факт.
Во-вторых, «целостность» и «нерушимость границ» Молдовы не существуют изолированно от сохранения Молдовой своего суверенитета, но это качество молдавской государственности может быть окончательно утрачено после реализации Молдовой подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в особенности по тем положениям, где Молдова делегирует часть своих полномочий наднациональным структурам, а уж провозглашаемое нынешними властями в Кишиневе паталогическое стремление вступить в Евросоюз вообще плохо сочетается с понятием «суверенитет».
Реальные условия для урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровьем как его сторонами сложились спустя два года после окончания военных действий - 28 апреля 1994 года президентом Молдавии и лидером Приднестровья в присутствии Полномочного представителя Президента России и руководителя Миссии СБСЕ в Молдавии было подписано «Заявление руководителей Молдовы и Приднестровья», которое дало старт собственно переговорному процессу.
Изначально переговорный процесс шел как в направлении обеспечения невозобновления вооруженного противостояния («Соглашение о неприменении во взаимных отношениях военной силы и экономических санкций» от 5 июля 1995 г. – одобрено в рамках саммита ОБСЕ), так и в направлении разработки основ взаимоотношений между Тирасполем и Кишиневом.
8 мая 1997 г. в Москве был подписан меморандум «Об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем». Документ сам по себе довольно противоречивый. Так, в п. 2, например, говорится о том, что стороны «будут продолжать становление между ними государственно-правовых отношений», а в п. 11 о том, что стороны «строят свои отношения в рамках общего государства в границах Молдавской ССР на январь 1990 г.». Но в целом в этом документе прописаны идеи, которые позволили в значительной степени снизить накал страстей в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.
Тогда же в ответ на обращение сторон Россия и Украина стали гарантами выполнения достигнутых договоренностей. А ОБСЕ, отказавшись от участия в переговорном процессе в качестве гаранта, сохранила за собой статус посредника.
В ходе переговоров вырабатывался подход к проблемам урегулирования между Молдовой и Приднестровьем, был подписан ряд документов, признанных не только сторонами, но и международным сообществом.
Вместе с тем, с конца августа 2001 г. с приходом к власти в Молдове нового руководства в переговорах между Кишиневом и Тирасполем стали возникать серьезные затруднения. Ряд действий молдавской стороны, направленных на лишение Приднестровья возможностей осуществлять внешнеэкономическую деятельность, привел к тому, что с сентября 2001 г. по инициативе Тирасполя переговорный процесс был приостановлен почти на год.
В феврале 2002 г. в Братиславе состоялась встреча представителей России, Украины, ОБСЕ и Приднестровья, на которой было принято решение создать «Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию». Молдова присоединилась к этой инициативе в мае 2002 г., а в сентябре 2005 г. в качестве наблюдателей к работе «Постоянного совещания» присоединились ЕС и США. Так сформировалась переговорная площадка, известная сегодня как «формат 5+2».
Переговоры в рамках «Постоянного совещания» шли до конца февраля 2006 г., когда они были прерваны теперь уже молдавской стороной. Срыв переговоров сопровождался полномасштабной экономической блокадой Приднестровья.
Россия как страна-гарант урегулирования и один из посредников в переговорном процессе в формате «5+2» постоянно стимулировала контакты между Кишиневом и Тирасполем, направленные на решение приднестровской проблемы.
После возобновления в марте 2010 г. неформальных встреч участников формата «5+2» (за 2010-11 гг. состоялось девять таких встреч) стороны достигли договоренности о продолжении работы совместных экспертных/рабочих групп по мерам доверия на Днестре в ряде областей - социально-экономической, правоохранительной, здравоохранения и т.п.
Решение о возобновлении работы «Постоянного совещания» было принято по итогам прошедшей в два этапа (21 июля и 22 сентября 2011 г.) Московской встречи участников формата «5+2».
Совершенно очевидно, что почти шестилетняя пауза в переговорах не только не способствовала устранению причин, спровоцировавших острые противоречия, но и все более закрепляла стороны конфликта на диаметрально противоположных позициях. Сохранялись радикальные различия в подходах к модели приднестровского урегулирования: Кишинев основывался на Законе 2005 г., который ограничивает статус региона рамками унитарного государства, предоставляя Приднестровью фактически урезанную исключительно культурную автономию. Тирасполь опирался на итоги референдума 2006 г., в ходе которого 97% приднестровцев высказались за независимость ПМР и последующее вхождение региона в состав Российской Федерации.
После длительных дебатов в ходе трех официальных встреч путем увязки с рядом ранее принятых в ходе переговорного процесса документов был найден удовлетворяющий Кишинев и Тирасполь компромисс по принципиально важному вопросу - о равенстве сторон конфликта в переговорном процессе.
Был согласован график заседаний, предусматривавший от пяти до шести встреч в год, и утверждена повестка дня переговорного процесса, состоящая из трех разделов («корзин»), при этом «третья корзина» - «всеобъемлющее урегулирование, включая институциональные, политические вопросы и вопросы безопасности» – не наполнена конкретным содержанием и до настоящего времени.
На полях переговорного процесса состоялся ряд встреч лидера Приднестровья с премьер-министром Молдавии, в ходе которых были подписаны некоторые документы, наиболее важным из которых являлось протокольное решение «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья».
Вместе с тем, как показали официальные заседания формата «5+2», наметившаяся позитивная динамика в урегулировании уже со второй половины 2012 г. явно ослабла. Причина – все более ужесточающаяся позиция Кишинева, нежелание продвигаться по пути решения практических вопросов, стремление – при активной поддержке западников и Украины – развернуть дискуссию по проблематике собственно политического урегулирования и статуса региона, что явно заводило переговоры в тупик.
Подобная позиция обусловила дальнейшее расхождение подходов сторон к определению политического будущего Приднестровья. Так в ходе традиционной конференции ОБСЕ по обзору мер доверия в Баварии, где молдавский премьер вновь пропагандировал «прелести жизни» в унитарном государстве, строящем к тому же особые экономические отношения с Евросоюзом, лидер Приднестровья впервые на международном уровне продекларировал идею «цивилизованного развода» двух берегов Днестра.
С 2014 г. работа формата «5+2» утратила свою ритмичность, переговорный процесс, по сути, вновь оказался в тупике. Причиной этому явилась жесткая позиция Кишинева по всему спектру обсуждавшихся вопросов. Кульминацией стал отказ молдавской делегации от согласования протокола братиславской встречи «Постоянного совещания» в октябре 2019 г. С этого момента работа формата оказалась полностью парализованной – насколько я знаю, до сего времени ни одного раунда переговоров не состоялось, хотя формально из переговорного процесса ни одна сторона не выходила.
Не способствует созданию позитивного фона для переговорного процесса принятие в феврале 2022 г. молдавским Парламентом закона об усилении борьбы с сепаратизмом, в соответствии с которым большинство населения левого берега Днестра уже не просто политически, а юридически попадает в категорию преступников - «сепаратистов».
Вместе с тем, процесс политических переговоров по урегулированию молдо-приднестровского конфликта и сегодня остается, важным инструментом, в рамках которого существуют возможности для решения актуальных вопросов, находящихся на повестке дня, а также обеспечения прав и интересов населения Приднестровья, российских граждан и соотечественников, проживающих здесь.
В сложившейся ситуации самым важным представляется возобновление этих переговоров. В каком формате? Ответ на этот вопрос, скорее всего, будет дан после завершения СВО. Важнейшую роль здесь должна сыграть политическая воля и трезвая оценка ситуации, прежде всего молдавским руководством. Складывается парадоксальное положение – пришедшие к руководству в Молдавии так называемые «демократические» силы (хотя, как показывают последние события на молдавской политической сцене, в Кишиневе весьма своеобразное понимание термина «демократия», существенно отличающееся от классического) в отношении приднестровской проблемы стоят на позициях побежденных ими коммунистов. Причем, даже более жестких – ведь бывший президент Республики Молдова лидер молдавских коммунистов В.Воронин давал согласие на «План Козака», т.е. на федерацию с Приднестровьем.
Не снимается с повестки дня и постоянно обсуждаемая в молдавских верхах возможность объединения страны с Румынией, несмотря на отсутствие поддержки этого шага со стороны подавляющего большинства молдавского народа.
Для России приднестровское урегулирование – принципиально важная задача. Здесь проживает более двухсот тысяч российских граждан, исторически сформированы крупные экономические интересы. Как никто, мы заинтересованы в стабильности в регионе и добросовестно выполняем возложенные на нас сторонами конфликта посреднические и миротворческие функции.
Интересы Кишинева и Тирасполя понятны. Вопрос в том, как не допустить разрешения противоречий в антагонистическом ключе. Плата за ошибки – потеря стабильности, социально-экономические издержки, которые тяжелым бременем ложатся на население, возвращение конфликта в горячую фазу.
Урегулирование в таких условиях выглядит как процесс поиска формата дальнейшего существования для Приднестровья. В этих поисках Приднестровье во многом благодаря российской дипломатии участвует как равноправный участник переговоров.
Вместе с тем, одобрив Доклад №13 миссии СБСЕ в Молдове от 12 ноября 1993 г., Россия одобрила и содержащееся в нем положение о том, что «в случае, если Молдова решит отказаться от своей государственности, чтобы объединиться с другим государством … Приднестровье будет иметь гарантированное право «внешнего самоопределения», т.е. определить свою собственную судьбу».
Отвечая 31 июля 2012 г. на вопрос участников форума «Селигер-2012», Президент В.В.Путин конкретизировал российский подход к проблеме, указав, что «только сам приднестровский народ, народ, живущий в Приднестровье, может определить свою судьбу, а международное сообщество, в том числе Россия, будут к этому выбору относиться с уважением».
Решением приднестровской проблемы может стать только продуманный и взвешенный компромисс, выработанный сторонами в ходе равноправных переговоров. Достаточно ясны его элементы:
- Жизнеспособной, всеобъемлющей договоренность сторон конфликта может стать только в том случае, если она будет выработана при уважении самобытности Приднестровья во всех аспектах.
- Нейтралитет Молдавии и безусловное уважение прав всех проживающих на ее территории национальностей должны стать вкладом в архитектуру безопасности современной Европы.
- Модель урегулирования должна отвечать европейской политической культуре - в переговорном процессе за 30 лет сформирован богатый фонд предложений на этот счет.
Представляется, что это во многом тот результат, на который должны выйти стороны в процессе официальных переговоров.